Она просыпалась утром — и видела сразу море.
Большое такое море, где берегом — горизонт.
И в утренних бликах солнца сверкало большое море.
Сверкало аквамарином и ласковой бирюзой.
Над морем летали птицы — большие, почти как море.
И линии их полета над морем плелись узлом.
Она улыбалась птицам. А птицы играли с морем.
А птицы играли с морем, касаясь воды крылом.
Она засыпала ночью — и с ней засыпало море.
И с ней засыпали птицы, большие закрыв глаза.
Но даже во сне немного скучала она по морю,
и снились ей блики солнца, и море, и бирюза.
Ей снились в ладони мокрой морского песка крупицы.
Ей снились на гладких скалах соленых ветров следы.
И снова — большое море. И снова — морские птицы.
И птицы играли с морем, касаясь крылом воды.
И было так близко море, что только протянешь руку —
и можно рукой коснуться волны, бирюзы и птиц.
Вот так вот и жить у моря. Вот так вот и быть друг с другом —
песчаной крупицей мокрой среди остальных крупиц.
Она просыпалась утром — и видела сразу море.
Глядела она на море с улыбкою на лице.
И море ей улыбалось. И было картинкой море,
приклеенной на обоях в каком-то Череповце.

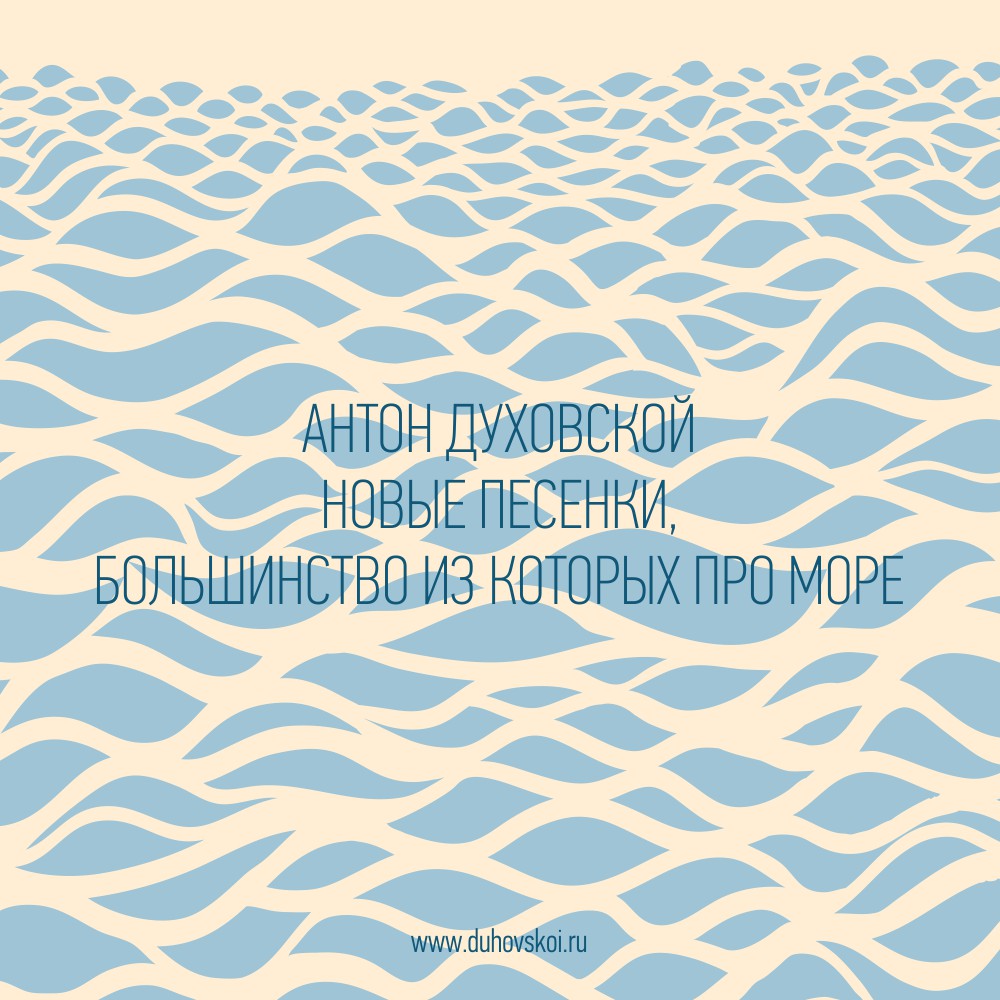
 Скачать альбом (72 Мб)
Скачать альбом (72 Мб) На главную
На главную